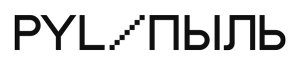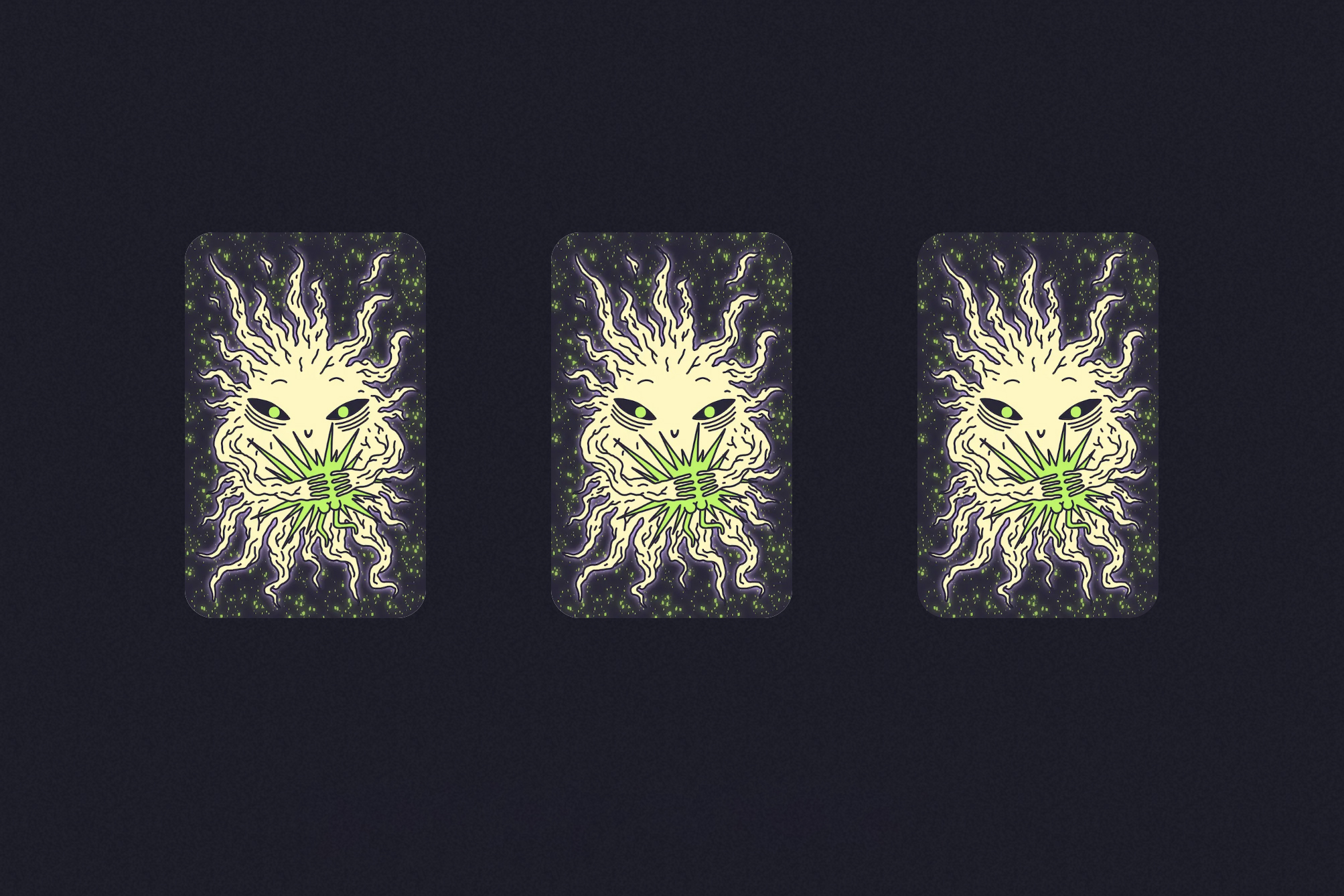«Не факт, что волонтёры не будут травмированы как свидетели»

В начале 2000-х, во время Второй чеченской войны, Ольга Гурова работала психологом в судебно-медицинской лаборатории Ростова-на-Дону. Это беспрецедентный случай: в российской истории психологи работали с участниками войны впервые. Сегодня Ольга живёт в Бостоне, но несмотря на удалённость от места событий, помогает жертвам российско-украинской войны. Вместе с коллегой Юлией Бурлаковой она запустила проект «Тепло» — бесплатный терапевтический онлайн-курс для украинских бежен_ок, который помогает им осознать и пережить травматический опыт.
Психолог Стас Кузнецов поговорил с Ольгой — об опыте работы с родственни_цами погибших на Чеченской войне и о травме тех, кто помогает сегодня.
Как так получилось, что ты оказалась психологом на Чеченской войне?
Тоже всё время задаюсь этим вопросом, как так получилось. Это случилось сразу после института. Я начала работать [военным психологом] ещё до войны, в начинающем развиваться психологическом центре. Был самый конец 90-х, гуманизация пришла даже в армию. Туда начали подтягивать молодых, бывших студентов психологических вузов. И почему-то в 20 лет мне показалось, что это имеет смысл попробовать. Платили почти ничего, и почему-то казалось, что и это тоже совершенно нормально.
А потом началась [Вторая чеченская] война, и это было с одной стороны неожиданно, а с другой давало такое ощущение, что вот теперь мы действительно нужны. Вот сейчас мы что-то такое будем делать, помогать. Но никто не знал как: все свеженькие выпускницы.
Сначала появились раненые и нас отправили с ними работать в госпиталь. Потом на пороге появился абсолютно серый майор и сказал: «А вы знаете, у нас такой центр есть, лаборатория опознания, и туда привозят родителей на опознания. И что-то надо с ними делать, потому что мы не знаем, что. Они там стоят, ходят. Нам нужно, чтобы вы пришли и нам помогали». Так я оказалась на этой страшной работе.

Это было в Ростове-на-Дону?
Да. В 124-й лаборатории, о которой говорит [Дмитрий] Муратов¹ в своей Нобелевской речи. Он рассказывает про телевизор — это телевизор, который смотрели родители, где были трупы-трупы-трупы. Я вместе с родителями смотрела эти кадры с искажёнными, искалеченными погибшими солдатами, и если они не справлялись по видео, их приводили в морг.
Это было так устроено, что опознавали не вживую, а по записи?
В лаборатории, да, были видеозаписи останков. И если человек был опознаваемый, то в принципе всё так и заканчивалось в лаборатории. А если [родственники] не справлялись, то дальше они приезжали в морг и уже по каким-то родинкам [опознавали].
Вообще я должна сказать, что про 124-ю лабораторию и её начальника Щербакова² ходили легенды. Родители его боготворили. Потому что самое страшное было то, что с Первой чеченской, а это 1994-96 годы, осталась гора неопознанных трупов. И, соответственно, куча родителей и жён, которые все эти годы продолжали их искать, ждать. Во Второй чеченской этого не было уже совсем. Это была всё равно дикая кампания, но в ней была хоть какая-то логика. Там уже не посылали людей, которых только призвали, их хотя бы в учебку отправляли на какое-то время, готовили к этому. О мирных жителях по-прежнему никто не заботился, но вот каким-то странным образом начали заботиться о военных. Было ощущение какого-то, что ли, прогресса. Была ещё гласность. Я видела списки этих погибших, я знала, сколько в этом журнале людей записано. Эти цифры соответствовали тому, что говорили в газетах и телевизоре. Да, может быть, с опозданием на два-три дня или на неделю, но всё равно эти данные появлялись. Люди знали, что происходит. Во всяком случае, если интересовались.
Но ещё было ощущение, наверное, как и сейчас, какого-то разломанного мира. Потому что едешь на войну, а потом возвращаешься в Ростов, который вот, в 40 минутах лёту, а там мирная жизнь, там лето, там фрукты, там девочки в коротких юбках. И ты такая вроде девочка. И этот центр опознания такой тоже за забором, внутри этого госпиталя, по пропускам. И там убитые горем люди, а вокруг всё цветет и живёт.
“Помню это ощущение, как я в этой форме, запылённой, грязной, приезжаю из Чечни. Меня везут по одной из главных улиц Ростова. Домой возвращаюсь. И вижу девчонок в этих сарафанах, моего возраста. И у меня в голове «как, как это вообще возможно?» ”
А как была выстроена твоя работа?
Как была выстроена моя работа. Да плохо была выстроена. Когда мы только начали, вообще не понимали, что от нас нужно. И только сейчас я уже поняла: я получила профессиональную травму, которую не осознавала в силу своих личных особенностей. Кто-то отказывался работать в этом центре, а мне казалось, что у меня нет причин отказываться.
Чаще всего я помогала при опознании. Когда у людей начиналось какое-то сильное отрицание, какую-то поддержку оказывала, разговаривала с ними. Помимо этого была еще работа с военнослужащими, диагностика, плюс ещё солдаты привозили своих, а ещё были сотрудники лаборатории. Но какой-то системности не было.
Самые, наверное, безумные были моменты, когда я поехала сопровождать родственников погибших в Первую чеченскую. Потому что даже в 2001 году ещё не было опознано около 300 тел. И вот когда я повезла этих людей, которые уже к тому времени лет шесть искали своих родственников, это, конечно, было вообще. Это смесь отчаяния и надежды, которая не даёт жить. Когда понимаешь, что всё бессмысленно, но всё равно надеешься. Это одно из самых трудных переживаний — без вести пропавшие, когда работа горя не начинается, когда человек не начинает переживать утрату, застревает в этом бардо между жизнью и смертью.
Были, конечно, и совершенно безумные случаи. Например, когда женщины ехали в Чечню выручать, искать своих детей, которые, как они думали, в плену. Обращались к каким-то гадалкам (это же конец 90-х) и те им говорили одно, другие третье, брали с них деньги, обманывали. Они ехали в Чечню, а потом сами попадали в плен. Я с одной такой женщиной разговаривала, которая поехала спасать своего ребенка и потом 8 месяцев провела в чеченском плену.

Ты разговаривала с ней как с пациентом?
Да, она была среди той группы, которая ехала на захоронение неопознанных 300 тел, которые Щербаков обещал опознать. И, действительно, сейчас на всех этих могилах стоят имена.
Были ещё поездки в Чечню. Это тоже было очень своеобразным опытом. Там приходилось работать с людьми, которых как-то достали из плена.
То есть вы были первой линией помощи?
Нет, ты знаешь, это было как-то очень несистемно в то время. Это же был единственный центр, это был какой-то эксперимент. Мы много обучали людей, по сути обучали военных психологии. Потом мы сами стали учиться. Я училась в «Гармонии», в программе по работе с психологической травмой, которая, кстати, была спонсирована Соросом. Они дали грант на обучение психологов. На тот момент всё, что было нам известно про «травму» — различные американские разработки. В то время очень много вкладывалось в такие социально значимые проекты. Но до этого я полтора года отработала вот в этих условиях, не понимая ничего, что я делаю.
Получается, у тебя сначала был непосредственный опыт, а уже потом теория?
Да, да. Вернее, даже практика. Теорию давали в институте, она не очень помогала в таких условиях работы. Скорее мы друг у друга учились. Кто-то был опытный, естественно не с таким опытом, но как-то мы друг другу передавали знания.
Я пытаюсь себе представить. Тебе 21 год, ты почти что без опыта попадаешь почти что на войну и выезжаешь ещё в зону боевых действий. Встречаешься с людьми, которые теряют своих детей, с пленными. Я могу представить, но с другой стороны я совсем не могу представить, что там за переживания.
Я тебе могу сказать, что осознала я, насколько это был травматичный опыт, вот сейчас, когда война началась. Я живу с этой войной всю мою жизнь. Когда у меня у самой появился ребёнок, я поняла, что не хочу, не могу себе позволить этим больше заниматься. И после этого я ушла в абсолютно мирную деятельностью. Я стала заниматься тренингами персонала, потом сделала карьеру, руководила отделами персонала. Я работала в прекрасных компаниях, уже в Москве. Это и клиники «Чайка», и телеканал «Дождь». И где-то всегда фонило оно [война], но на уровне сознания представлено не было, что это какой-то травматический опыт.

А когда появилось предчувствие войны… Появилось оно в 2014-м, когда Крым взяли. Помнишь, были большие протесты в Москве, тогда выходило очень много людей. Я только недавно пересматривала фотографии с тех времен и [увидела, что] мы ходили [на митинги] с плакатами «Нет войне». То есть в принципе, что это война, мы уже знали в 14-м году. Вернее, что это большая угроза войны, даже Донбасса ещё не было. А потом как-то все забыли, что война идет.
А сейчас я как-то… Я чувствовала такое разочарование — ёлки-палки, я занималась мирной профессией, изучала теорию U про экосистемное лидерство, которое должно улучшить глобально жизнь человечества. И вдруг все эти идеи, все эти проекты и весь мир поворачивается в противоположную сторону. Не то чтобы это было сильно неожиданно, но все равно это было очень сильным разочарованием, очень много было злости.
“Было ощущение, что мы, как общество, находимся в базовой безопасности и можем наконец-то работать со своей коллективной травмой. Вот мы три поколения исцелялись в надежде, что сможем из этого выйти. И нет.”
Если вернуться к тем событиям. Как ты справлялась с такой нагрузкой? Я понял, что ощущение большого урона ты осознала только спустя много лет, но что ты делала тогда, была ли какая-то помощь со стороны старших коллег?
Ты знаешь, сильно лучше я стала себя чувствовать, когда я начала учиться. Потому что обучение было, конечно, не онлайн и не в академическом формате, а это были такие тренинги с погружением, через личный опыт. И вот это ощущение группы, очень много тепла — это тоже один из важных элементов, что проживать это надо вместе. И ощущение осмысленности своей работы, это было самым целительным.
Но это уже было после.
Даже когда я была там, на войне, абсолютно беспомощна, ощущение плеча, что мы вместе, что это важная работа, да, пусть она тяжёлая, но это кому-то нужно — вот это было, наверное, самым поддерживающим. Ну и плюс переключение: работа не полностью захватила мою жизнь, у меня был кусок мирной жизни, которым я продолжала жить, продолжали быть мои друзья. Моя молодая жизнь существовала параллельно этой войне.
Твои близкие? Родители?
Скорее это была больше компания друзей, которые к войне не имели никакого отношения. Какой-то такой микс той жизни, о которой я говорила. Что вот в Ростове идёт мирная жизнь, причём бурная жизнь, это начало 2000-х. Молодёжь тусила, а параллельно эта война идёт. Такой разлом.

Это интересно, что ты описываешь это скорее как какой-то плюс, что была какая-то другая жизнь и возможность в неё погружаться. Потому что я знаю, что многих сейчас как раз коротит от того, что они видят большую разницу между тем, что происходит на войне, и, например, в Москве.
У меня у самой противоречивые чувства это вызывает. Но тогда, надо сказать, к той войне не было с морально-этической точки зрения такого отношения, во всяком случае для меня. Я уже после этого опыта увидела, как люди боролись, чтобы это война остановилась, и журналисты, и активисты. И как защищали чеченское население мирное. И какая она была бесчеловечная.
Потом, когда война закончилась, и вот уже начинал формироваться новый чеченский режим, я оказалась в больнице с чеченской девочкой, которая перенесла ожоги от бомбежки, процентов 70 у неё поражения кожи было. Мы с ней стали разговаривать, и я услышала историю.
С другого конца?
Да, обычной чеченской семьи, которая пострадала от этой войны и продолжает страдать. Насколько они тогда были брошены все, насколько там уже тогда был беспредел, насколько они были беззащитны в своём состоянии.

Я правильно понимаю, что текущая война перевернула твоё восприятие того, что с тобой происходило раньше, но и та война как-то влияет на то, как ты воспринимаешь войну сейчас?
Как только эта эскалация начала происходить, я писала антивоенные посты, про ужас войны, что это за собой потащит. У меня были ощущения, что мы на пороге, что мы будем видеть горы трупов. Вот именно в такой формулировке, потому что я их видела раньше, на другой войне. Вот оно [ощущение] у меня было ещё до того, как полетели первые ракеты.
Эта война не перевернула, она действительно поменяла мое отношение к моему прошлому, моей прошлой профессиональной идентичности. Я всё как-то бессознательно скрывала. В мирном контексте говорить об этом было как-то вообще неуместно. Если ты кому-то сказал, что был военным психологом, ну что с этим делать? Такая тема, которую лучше не затрагивать.
А сколько лет ты молчала? Я понимаю, что что-то просачивалось.
Ну что-то прорывалось, да, но вот как только я начала заниматься развитием персонала, это вообще нигде не фигурировало. Я даже из резюме это стёрла. Потом, конечно, терапия не последнюю роль сыграла, помогла как-то интегрировать это всё в опыт. Но это скорее личное, а сейчас, когда я уже поняла свое чувство беспомощности — за что хвататься, что делать, страх снова с этим сталкиваться в такой концентрации ужаса, я поняла, что это про профессиональную идентичность, что это больше не про личную травму.
И это важно, потому что не факт, что люди которые занимаются волонтёрством, помогают какие-то конкретные действия совершить, не будут травмированы как свидетели. При этом у волонтёров есть конкретные задачи, которые они решают, есть ощущение, что ты что-то сделал, помог, это должно очень поддерживать. Мы были психологами, и было непонятно, чего от нас ожидать, как мы должны были помогать человеку в состоянии острого горя. Понимания того, в чём он нуждается, на тот момент у нас ещё не было.
Это был как раз один из моих вопросов, про травму свидетеля, потому что огромное количество людей оказались вовлечёнными в эти события, и многие из них выбрали роль помогающих — волонтёр_ок, координато_окв, кто-то взял на себя распространение информации, потому что у них есть подписчики в социальных сетях. И это тоже примета этой войны, что ты можешь использовать как-то свой социальный капитал и пропускаешь таким образом через себя огромное количество всякого.
Очень важно, чтобы было какое-то просвещение о том, что опыт свидетеля — это тоже травматический опыт. Может казаться, что люди, с которыми мы работаем, травмированы, а мы нет. Это не так. Надо принять концепцию, что ты помогаешь собой, и от того, в каком состоянии ты поддержишь, будет зависеть, как эффективно и как долго ты сможешь помогать другим. И что они точно так же имеют право и, более того, должны получать эту помощь, профилактику своего психологического выгорания. Кто-то интуитивно справляется с этим очень классно, а кто-то очень плохо.
А что бы ты могла сказать им? Учитывая, что многим из них едва ли больше 20 лет, для них это первая в жизни война, и у них есть такой же заряд, какой был у тебя — не пройти мимо.
Надо получать помощь. Надо уделять этому время, уделять этому внимание. Это могут быть супервизии, это могут быть группы поддержки, это могут быть сходки с возможностью отдыхать, переключаться. Это обязательно должно быть, чтобы сохранять способность помогать.
Мне очень нравится посыл, который прозвучал от одной из участниц наших групп. Она сказала, что тот факт, что они уехали и заботятся о себе и о детях — это сохранение психического здоровья нации. У очень многих [украинских бежен_ок] есть чувство вины из-за того, что я не на войне, я покинул страну, я не с теми, кто на переднем краю. И этим посылом чувство вины немножко снижается. Заботясь о своем психологическом здоровье, ты создаешь условия, чтобы быть как можно дольше этим помогающим профессионалом. А у нас, я думаю, впереди долгие-долгие годы потребности в таких людях.
Как ты думаешь, с твоей позиции психолога, у которого был опыт тогда и появляется свежий опыт в этой войне, что будет после войны?
После этой войны я не знаю, что будет. После той войны всё было плохо — про неё забыли. Забыли про людей, которые на ней пострадали, забыли про солдат. Ну, знаешь, так как у нас нет никакой статистики, что было после чеченской, никто не знает. Сколько было самоубийств после этого? После вьетнамской посчитали. И меня в своё время потрясла эта цифра, что самоубийств среди ветеранов Вьетнама было больше, чем потерь на фронте.
“Но мы можем по-другому взаимодействовать с этим опытом, чтобы сохранить психическое здоровье людей. Мы уже очень много всего собрали, мы изучили многое в травме. И мы можем повлиять на то, как мы будем жить после войны.”
Большая часть популяции как-то справляется с этим травматическим опытом и живёт дальше. Какой-то небольшой процент попадает в посттравматическое стрессовое расстройство и имеет тяжелые симптомы, а другой процент переходит в стадию посттравматического роста, когда этот опыт становится почвой для скачка в развитии личности. Мы это видели после страшной Второй мировой войны у того же [Виктора] Франкла³, который переработал опыт концлагеря, вывел его в совершенно новый уровень осознанности и поделился этим знанием с миром.

________________________________________________
¹ Российский журналист, правозащитник. Главный редактор «Новой газеты», один из её основателей. Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
² Полковник, начальник 124-й судебно-медицинской лаборатории Северо-Кавказского военного округа в Ростове-на-Дону, главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны РФ по идентификации личности человека. Руководил идентификацией всех неизвестных солдат Первой и Второй чеченских войн. После службы был председателем ростовского отделения партии «Яблоко».
³Австрийский психиатр, психолог, философ и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Известен как создатель логотерапии (буквально: исцеление смыслом) — нового, динамично развивающегося в современном мире направления в экзистенциальной психологии и психотерапии, и как основатель третьей венской школы (после психоанализа Фрейда и индивидуальной психологии Адлера).
You may also like
Как при помощи Таро убедить людей в России больше донатить
Рассказывает авторка проекта «Как карта ляжет»
«Брат, а нахрена вам это поле?» Как работает движение против оккупации грузинских территорий
Фоторепортаж из села, разделённого незаконной границе
«Они разбирают часть своей жизни»: пять историй о том, как украинцы отстраивают разрушенные дома
Репортаж из Бучи, Ирпеня и Черниговщины